| |
 Японцы Японцы, Это те человеки которые живут в Японии =) |
|
|
|
|
  14.11.2008, 17:28 14.11.2008, 17:28
|

БегемОтистая БаРмОлейка
      
Группа: RAnMA
Сообщений: 966
Регистрация: 13.12.2007
Из: Таганрог
Пользователь №: 5

|
Три статьи о японском менталитете. Самоубийство Ромео и Джульетты в книги Шекспира можно трактовать как "бегство от действительности". Война между двумя кланами не давала влюбленным сердцам соединиться на земле. Поэтому они и совершили этот греховный шаг. В японской культуре тоже поднимался вопрос самоубийства ради вечной любви. Но, в отличие от христианской Европы, в Японии самоубийство не считается греховным деянием.
Любовь в союзе со смертью непобедима.
Генрих Гейне
Странная вещь - сердце, как легко его взволновать.
Сэй Сёнагон.
Существует область жизненных тайн. Ей всецело принадлежит любовь как особое чувство, вложенное в сердце человека. Японская классическая литература создала изумительные образы любви, открывающие страстные начала в японской национальной стихии. Образы любви рождены в классической литературе не любовным культом женщины (так было в Западной Европе), но эротизмом - этой константой японского мировосприятия. Эрос как влекущее начало вещей и влекомость к нему известны японцам с мифологических времен. Уже в эпоху Хэйан (IX - XI века) чувственное сублимируется в культуре в особый эстетизм, подчиняется закону (нравы) и форме (этикет). Любовь мужчины и женщины становится основной темой литературы эпохи Хэйан, проповедовавшей культ любви, ее самоценность. Аристократическая среда, создавшая хэйанскую литературу, называла культ любви словом "ирогономи" (букв.: "любовь к любви"), что означало культ чувственных наслаждений и постоянное их искание как стиль жизни. Поэтому ранняя японская классика оставила нам образ принца Блистательного Гэндзи (Хикару Гэндзи), окруженного множеством женщин, каждая из которых была обладательницей какой-то одной неповторимой и чарующей черты. И мы не встречаем в хэйанской повествовательной литературе образов Тристана и Изольды, Данте и Беатриче. Она не знала рыцарства, ибо не знала избранности в любви; не знала культа прекрасной дамы, но знала культ прекрасных любовных мгновений. Эпоха Хэйан оставила потомству таинственную заповедь поклонения "чарам вещей" (моно-но аварэ), в которой сгустились в некую плотность из древности идущая магия и порожденные временем гедонизм и эстетизм. Комплекс хэйанских идеалов стал неразрушимым фундаментом национальной культуры. Хэйанские гедонистические и эстетизированные представления о любви мужчины и женщины неуничтожимо прошли через последующие феодальные века сурового камакурско-асикагского аскетизма и эдосского конфуцианского ригоризма, а также атеистического позитивизма и прагматизма новейшего времени. Мы говорим "неуничтожимо" в смысле постоянной составляющей человеческой психологии. В культурно-историческом плане тут было движение и было многообразие, была своя бесконечная драма страстей. В хэйанской литературе определился и вполне прочно, на века, женский идеал и место японской женщины в ее союзе с мужчиной.
Женщина должна быть хрупка, миниатюрна, нежна и мягка, сдержанна, преданна. Она должна обладать художественным вкусом, тонкостью чувств, умением создать собственный облик, проникнутый подлинный очарованием. Внешняя привлекательность и происхождение чрезвычайно ценились: они считались результатом счастливой кармы, благодетельных прежних рождений. Огромное место отводилось костюму и искусству носить одежду. Неэтичным и не эстетичным считались в женщине непреклонность, недовольство, чрезмерная ученость, непокорность, мстительность и особенно - ревность. Дух ревнивой женщины приносил зло. Идеальная хэйанская аристократка была в меру образованна, научена слагать стихи, обладала прекрасным почерком и умела вести переписку, играла на музыкальных инструментах (как правило, на кото), танцевала, владела искусством составления ароматов. Такая женщина обладала в значительной степени и социальной и моральной независимостью. И при всем том ее положение в сфере любовных отношений, в семье да и во всем остальном не было равным с мужчинами уже в эпоху Хэйан. Мужчина по самой своей природе более свободен от пола; женщина в значительно большей мере зависит от этой стороны жизни. Это усугублялось в Японии тем, что там очень долго сохранялась первобытная форма брака "цумадои" (посещение жены), при котором муж жил отдельно от жены и лишь время от времени навещал ее. Полигамия была нравственной нормой, и отсутствие многих жен у мужчин было признаком бедности и простого происхождения. Женщина могла принимать у себя и других мужчин в отсутствие мужа, но официально многомужество расценивалось как измена. Такой брак был скорее похож на свободную любовь, нежели на брачные узы. Не случайно в хэйанской литературе нет культа материнства. Женщина здесь чаще всего становится объектом мужского сладострастия, объектом созерцания в ней всего особенно женского, но как женственного без материнства. Женщина в союзе с мужчиной занимала внутренне всецело подчиненное положение. Не случайно также автор романа о принце Гэндзи придворная дама Мурасаки Сикибу слагает такие афоризмы: "женщина - в руках мужчины", "женщины рождаются на свет лишь для того, чтобы их обманывали мужчины". Правда, в этом романе мы встречаем женские образы, которым не чужды решительность, хладнокровие, гордость, способность защитить себя от мужского своеволия. Встречаются тут и мужчины, склонные сохранять верность одной-единственной женщине. Но общество воспринимает такие проявления как странность и чудачество, но никак не норму.
В эпоху Хэйан сложились и передались в последующие времена правила любовных отношений, своеобразный язык любви в жестах и словах, закрепленный в этикетный канон. В этой связи в мужчине высоко ценилась опытность в делах любви; он должен был владеть искусством любовного свидания, знать, как элегантно начать и завершить посещение любимой. Все это как дух и тон любовных отношений передалось в поколениях, и японская литература и театр создали трогательные, беззащитные, кроткие и хрупкие образы женщин, у которых женственность разлита по всему существу, у которых нет мужских свойств, нет и андрогинности (что, между прочим, так любили воспевать некоторые европейские философы и поэты). Демоническая разрушительная природа женской ревности также вся целиком принадлежит женской стихии; она противоположна своей иррациональностью и необузданностью долгу мести или ревности у мужчин. Мужчина является перед нами со страниц японской классики как воплощение чистой мужественности. Его элегантность, изящество, знание толка в одежде, ароматах, цветах - все это присуще ему на мужской лад. Он также не андрогин и к андрогинности не стремится. Мужчина и женщина как носители беспримесных начал не вступают поэтому в изнурительную "борьбу полов" (это возникает только в новейшее время), но мы видим постоянное склонение женщины к мужчине, ее счастливую или страдательную отраженность в нем, молчаливое и нередко преданное служение ему.
Японская средневековая женщина признает свою подчиненную природу как мировой порядок и считает своим долгом - и по инстинкту и по воспитанию - следовать этому природному порядку (он выражен в древней китайской мудрости в виде гармонически-подвижного сцепления двоицы инь-ян). Поэтому высшая кармическая задача женщины - развить и осуществить в себе данную ей самой природой женственность. А высшей кармической целью мужчины является осуществление своего мужского пути. Встреча мужчины и женщины мыслилась в философском плане как предначертанное самой природой со-бытие мужского и женского космических начал и достижение благодаря этому полноты бытия. Поэтому ревность - как разрушающая союз мужчины и женщины стихия - глубоко осуждалась. Но не только женская ревность являлась препятствием к гармонической любви. Чем далее во времени удаляемся мы от изящных кавалеров и дам Хэйана (где игра в любовь велась грациозно, по всем правилам этикета и религиозно окрашивалась смиряющим верованием в быстротечность земного бытия), тем острее и драматичнее звучат мотивы любви в японской литературе.
Если от повествовательной литературы раннего средневековья обратиться к народившейся в XIV в. японской драматургии для театра Но и затем - к драматургии XVIII в., представленной драмами для Кабуки и Бункаку, то легко заметить, что классическая драматургия развивалась главным образом на хэйанском материале (конечно, мы имеем в виду здесь только тему любви). Она углубляется в хэйанский материал, решая хэйанские темы в новом, сначала аскетическом буддийском ключе, а затем - погружает их в конфуцианский мир. Благодаря драматургии (особенно в ее сценическом воплощении) мы с особой силой и ясностью ощущаем "климат любви" в средневековой Японии: это "касание" полов; хоть и страстное, но без стремления к полному слиянию в "плоть единую". Любовь здесь не порыв к растворению в любимом существе, но влечение, тяготение и томление, разрешаемые встречей и интимной близостью. Любовь мужчины и женщины как опыт жизни - это, как правило, череда встреч (особенно для мужчины); в них нет драматической и часто неосуществимой жажды полного слияния, полного обладания. Историк японской культуры Сабуро Иэнага утверждает, что в средневековой Японии "между любовью и браком не было четкого различия, была немыслима любовь без физической близости". Японская литература не дает нам вплоть до XX в. образа платонической любви. Образцом же прочного супружества является, как правило, лишь престарелая чета, но никак не окруженная многочисленными потомками. Прекрасна сама по себе такая пара, прожившая вместе до глубокой старости. Одной из наиболее распространенных поэтических метафор подобного супружества служат сосны-близнецы, растущие из одного корня. Такие сосны называются по-японски "аиои", что означает "рожденные и стареющие вместе". Стволы этих сосен одинаково устремлены ввысь, они одинакового обхвата, они стоят тесно друг к другу, без зазора, но кроны их все же не сплетаются, и один ствол не обнимает другой.
Все это по-настоящему интересно, ибо отражает глубины японского миросозерцания, все это может быть развернуто в обширные рассуждения, но наша задача иная, и мы сделали столь пространное "предисловие" лишь для того, чтобы лучше оттенить главный предмет статьи, к которому мы теперь переходим.
В начале XVIII в. в японской драме появляется тема, никогда ранее не звучавшая в литературе. Эта тема была взята великим драматургом Мондзаэмоном Тикамацу (1653-1725) из самой жизни и претворена в драматических произведениях для театра больших кукол Бунраку. Тикамацу показывает нам новую любовь, возникающую в мещанской, а не аристократической среде, любовь, кончающуюся не охлаждением и прекращением встреч (как описано в хэйанской литературе), а самоубийством влюбленных в самый разгар их чувств. Самоубийство является для влюбленных жертвоприношением на алтарь вечности. Влюбленная пара умирает, ибо силою обстоятельств не может соединиться брачными узами в этом мире. Тогда она переносит свою любовь в иной мир в экстатической надежде возродиться в новых рождениях мужем и женою. Из подобного самоубийства не следует делать европоцентристский вывод в духе романтизма, будто истинной любви нет места в этом мире. Нельзя уподоблять его также гибели Ромео и Джульетты. Нельзя понимать такое самоубийство и в духе современной западной психологии как "бегство от действительности". Причины, мотивы, атмосфера, обстоятельства, цели, средства и сама идея самоубийства тут совершенно особенные. Это азиатская "диковинка", это типично восточное явление, нуждающееся в детальном толковании.
В 1703 г. написанием драмы "Смерть во имя любви в Сонэдзаки" (Сонэдзаки синдзю) Тикамацу открывает серию драм, посвященных этой теме. Тикамацу обращается к теме самоубийства из-за любви через 20 лет после первого такого случая, произошедшего в Осака и внесенного в городские хроники. К 1703 г. был составлен целый свод самоубийств влюбленных с указанием имен, возраста и других подробностей, так что можно говорить, что когда Тикамацу взялся за тему, самоубийство влюбленных перестало быть "случаем", а стало распространенным обычаем. До Тикамацу этой темы касались в театре другие драматурги (например, Кайон), а также новеллист Ихара Сайкаку (1642-1693), целый ряд эротических повестей которого кончаются самоубийством влюбленных. Считается, что именно Сайкаку ввел в литературный обиход новое слово для обозначения добровольной смерти любовников - слово "синдзю", которым и воспользовался вслед за ним Тикамацу. "Синдзю" первоначально имело значение "верность в любви" и являлось жаргонным словечком публичных домов. Тикамацу дал этому слову возвышенный смысл: "верность даже в смерти". "Синдзю" стало означать то же, что и старое поэтическое слово "дзёси" ("смерть во имя любви"). Обычай "синдзю" потрясал общество на протяжении полувека (с 80-х гг. XVII в. до 30-х гг. XVIII в.). Он был настолько распространен, что правительство повело с ним активную борьбу. Тем не менее искоренить полностью этот "феодальный обычай" не удалось, и даже в современной Японии он время от времени дает о себе знать во всех слоях общества. Так, знаменитый писатель XX в. Дадзай Осаму утопился с возлюбленной, а первая большая актриса театра современной драмы Сумако Мацуи покончила с собой после смерти любимого человека. И хотя и в адрес Тикамацу и театров раздавались обвинения в пропаганде кровавого обычая, его укоренение не было обусловлено популярностью театральных представлений на эту тему. Нельзя сказать, что в своих драмах о смертниках-влюбленных Тикамацу проповедовал самоубийство. Сказать так все равно, что объявить трагедию Шекспира "Ромео и Джульетта" повреждающим нравы произведением. Как уже упомянуто, Тикамацу обратился к теме "синдзю", когда подобные реальные происшествия стали, как тогда говорили, поветрием, и Тикамацу как большой художник не мог пройти мимо столь актуального явления. Он просто писал о том, что волновало всех; он взялся поставить общество лицом к лицу перед фактами и дать им философское, житейское и поэтико-драматическое освещение; он призывал глубоко задуматься над загадками бытия.
Обычай "синдзю" возник не на пустом месте. Намного раньше в самурайской среде сформировался обычай харакири, а задолго до "синдзю" японские женщины расставались с жизнью на могилах мужей и возлюбленных. Обычай самоубийства влюбленных не мог бы укорениться в обществе, которое не видело бы в нем чего-то чрезвычайно много говорящего сердцу. Если бы этот обычай не отвечал каким-то внутренним зовам, не затрагивал самых тайников народной души, как мог бы он распространиться? Приходится признать, что японцы видят в самоубийстве как таковом что-то, чего не видим мы, возросшие на почве христианских культур. В европейском человечестве происходили и происходят самоубийства и по сей день, а языческий мир восхвалял самоубийство как своего рода героизм. С переменой мировоззрения меняются и нравы. В христианском обществе самоубийство стало считаться тяжким грехом и великим несчастьем. Согласно христианским представлениям, греховность и даже преступность самоубийства заключается в том, что человек произвольно прекращает свою жизнь, которая принадлежит не ему только, но и Богу и ближним, которая дарована Богом для нравственного совершенствования, а не для злоупотребления. Тяжесть этого греха заключается также в том, что человек является в загробный мир непризванным. С христианской точки зрения самоубийца не герой, а трус, так как не имеет мужества и смирения снести несчастья, из-за которых обыкновенно решаются на самоубийство (потеря любимого человека, потеря имущества, неизлечимая болезнь, заслуженный или незаслуженный стыд и т.п.). По-христиански считается, что самоубийца обнаруживает сильную приверженность к земному счастью, коль скоро в несчастье отказывается жить. Но избегая временных бедствий, он подвергает себя бедствию вечному. Самоубийц не отпевает церковь, их хоронят вне пределов христианских кладбищ. Поэтому в среде верующих христиан самоубийство и теперь вызывает страх за загубленную душу. В современном западном мире психологи, может быть, не отдавая себе в том отчета, трактуют самоубийство в русле христианской традиции, но в своих терминах: как временное помешательство или как "бегство от действительности". Многие современные японцы (если они не христиане) считают самоубийство достойным способом ухода из жизни, а в самоубийстве влюбленных им видится величие и красота. Но ни буддизм, ни конфуцианство не одобряют убийство, и потому и здесь корни этого обычая следует искать в значительно более далекой древности, в первобытном, вернее даже перво-бытийственном строе японской души. Следует признать, что это народ, который на протяжении веков не видел греха в самоубийстве, который сделал из самоубийства своеобразный культ и разработал его ритуал, который слагал гимны самураям-самоубийцам и смертникам-влюбленным. Более того. Это народ, который видит в самоубийстве способ очищения, способ исправления человеческой судьбы.
Чтобы теснее войти в тему, проникнем в ткань одной из драм Тикамацу о смерти во имя любви. Как мы уже упоминали, Тикамацу написал целую серию подобных драм часто с однотипным названием. Знамениты "Смерть во имя любви в Сонэдзаки" (Сонэдзаки синдзю), "Смерть во имя любви в Икудама" (Икудама синдзю), "Смерть зеленщика во имя любви" (Яоя синдзю), "Колодец Касанэ" (Касанэ идзуцу), "Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей" (Синдзю тэн-но амидзима). Шедевром жанра считается последняя из названных драм, написанная Тикамацу на склоне лет, в 1721 г., и опирающаяся на подлинное событие (в драме сохранены подлинные имена). На ней мы и остановим свое внимание тем более, что она существует в русском переводе В.Н. Марковой, что позволит заинтересованному читателю обратиться к первоисточнику наших рассуждений. События драмы просты и даже несколько вульгарны, если сравнивать с аристократической хэйанской литературой или пьесами Но. Однако не в них только дело. В высшем смысле дело не в событиях, но в том, как духовно осуществляет себя человек в тех или иных обстоятельствах. А поскольку Тикамацу трактует человеческую жизнь с точки зрения высших смыслов и делает это средствами высокой поэзии, то многие подробности остаются за пределами текста драмы, а происходящее перед лицом зрителя получает возвышенно-поэтическое звучание. Сама драма вся нацелена на описание и изображение момента самоубийства влюбленных и только тех событий, которое непосредственно предшествует ему.
Житейская плоскость драмы сводится к любовному треугольнику. Осакский торговец бумагой Дзихэй 28 лет женат по родственному сговору на двоюродной сестре. У них двое детей, мальчик шести лет и девочка четырех лет. Три года назад Дзихэй влюбился в куртизанку Кохару из квартала любви Сонэдзаки и совершенно забросил и свое дело и семью. Кохару 19 лет, она известна своей красотой. Она была продана в веселый квартал матерью, впавшей в крайнюю бедность, и ей предстоит еще пять лет служить хозяйке. Кохару пылает страстью к Дзихэю уже 29 месяцев. Они дали друг другу обет никогда не разлучаться и любить друг друга вечно. Родственники Дзихэя возмущены его поведением. Весь город судачит о Дзихэе и Кохару, и хозяйка дома свиданий запрещает Кохару выходить на свидания с Дзихэем, ибо искренняя и верная любовь между посетителями и обитательницами домов свиданий не в интересах хозяев подобных домов. Любовники разлучены насильно.
Действие первого акта развернется в квартале любви в Сонэдзаки, в одном из чайных домиков, куда Кохару направляется по вызову какого-то неизвестного самурая. По дороге Кохару встречает богатого торговца Тахэя, который высмеивает ее любовь к Дзихэю, грозится, что выкупит ее из дома свиданий и женится на ней. Он богат и свободен в отличие от Дзихэя, но он не мил Кохару. Она не хочет быть его женой. Тахэй в бессилии начинает глумиться над самураем, пришедшим на свидание с Кохару. Он ошибочно подозревает, что это переодетый Дзихэй, но когда его ошибка обнаруживается, он в страхе удаляется. Начинается сцена свидания Кохару и самурая. Самурай недоволен: Кохару грустна, неприветлива. Тем временем Дзихэй, случайно узнавший, что Кохару принимает гостя в чайном домике, пробирается туда и подслушивает разговор Кохару с самураем. Кохару сознается самураю, что условилась с Дзихэем умереть вместе, но смерть ей ненавистна, и она умоляет самурая встать между ней и Дзихэем, охранить ее, за что она будет верна ему до гроба. Дзихэй все слышит и приходит в ярость. Он хочет убить Кохару, но самурай хватает его и показывает ему свое лицо. Дзихэй в ужасе: перед ним его старший брат Магоэмон. Магоэмон сознается, что захотел узнать, что таится на сердце у возлюбленной Дзихэя, и поэтому пошел на эту мистификацию, переоделся самураем. Он произносит монолог в защиту семьи, жены и детей Дзихэя и с досадой упрекает брата: "Нашел на кого променять жену и детей!" Кохару плачет и восклицает: "О, как вы правы! Как во всем вы правы!" А Дзихэй бросает ей в лицо мешочек со всеми ее 29 обетами, которые они давали друг другу в начале каждого месяца. Он требует, чтобы и она вернула ему все его обеты. Кохару повинуется и передает Магоэмону точно такой же мешочек. Дзихэй потрясен предательством Кохару, он порывает с ней навсегда. Братья уходят. Дзихэй возвращается домой к жене и детям, а Кохару в Сонэдзаки. Пути их, казалось бы, полностью разошлись.
Но во втором акте возникает подробность, которая все меняет. Действие второго акта происходит в доме Дзихэя. О-Сан, жена Дзихэя, хлопочет около мужа и детей. Приходят тетушка Дзихэя и брат Магоэмон. Они выражают Дзихэю недоумение: по городу ходит слух, что он выкупает Кохару. Дзихэй рассеивает их подозрения, уверяя, что "богатый покровитель" - это Тахэй. Тетушка требует от племянника дать письменный обет, что он навсегда разрывает свою связь с Кохару. Дзихэй пишет обет; тетушка и брат удаляются. Дзихэй плачет от досады. Он рассказывает жене, что Кохару клялась ему, что совершит самоубийство, если ее продадут Тахэю. И вот она предала его и тут. Тревога охватывает О-Сан. Она убеждена, что Кохару наложит на себя руки. Она уверяет мужа, что Кохару благородная натура, в подтверждение чего рассказывает Дзихэю, что давно уже написала Кохару письмо, в котором просила ее отказаться от Дзихэя ради сохранения семьи. На это письмо Кохару ответила ей, что обещает порвать связь с Дзихэем, хотя он и безмерно дорог ей. Так объяснилось "предательское" поведение Кохару в первом действии драмы. Раз она человек долга, то она безусловно совершит самоубийство, чтобы не стать собственностью Тахэя - убеждает Дзихэя жена. О-Сан умоляет Дзихэя поскорее выкупить Кохару. Она отдает ему все оставшиеся в доме деньги, всю свою одежду и одежду детей. Неожиданно появляется отец О-Сан; он все увидел, все понял, до него дошли все слухи и он силою уводит дочь от Дзихэя, требуя у него разводную. Отец разрывает их брак. Дзихэй свободен. Третий акт возвращает нас в квартал Сонэдзаки глубокой ночью того же дня. Дзихэй и Кохару уединились в чайном домике. Приходит служанка от хозяйки Кохару и сообщает, что Тахэй внес деньги за Кохару, и теперь Кохару принадлежит ему. Теперь влюбленным ничего не остается, как умереть вместе. Они тайно бегут на остров Небесных сетей, где и совершается их гибель. Утром рыбаки находят их тела. Таков ход событий драмы. Но это еще не вся драма. Она имеет подводные токи и ими глубока.
Возьмем ее сердцевину – любовь Дзихэя и Кохару. Невозможно отказать этой любви в возвышенности и поэтичности. Автор не рассказывает нам, как встретились Дзихэй и Кохару, как началась их любовь; он показывает героев через три почти года после их первой встречи. Бросается в глаза и то, что в драме нет ни одной сцены встречи и расставания, излияний и объяснений, здесь не переданы "восторги любви", т.е. тут нет всего того, что в европейской литературе принято называть языком любви. Нет и сцен "выяснения отношений". Любовь явно передана Тикамацу какими-то другими средствами, чем в европейской драме, где горячие, страстные, открытые признания в любви, сцены свиданий, гимны возлюбленным, сцены любовных томлений и ожиданий – азбука любви. Тикамацу устремляет наш внутренний взор лишь на один интимный факт возвышенности любви своих героев. Это – обеты. В них сконцентрирована и вся роковая сила событий. Дзихэй и Кохару в начале каждого месяца обменивались обетами. Содержание их было всегда одно: "Любить друг друга вечно, быть всегда неразлучными, как два крыла у птицы неразлучны". Это трогательные любовные клятвы, которые во все времена дают друг другу влюбленные в разных концах земли. Они напоминают обмен изящными стихотворными экспромтами между мужчинами и женщинами в хэйанскую эпоху. Они рождают романтическую и особо сокровенную атмосферу любви; это любовный лепет, особенным образом скрепляющий и завораживающий влюбленных. Такие клятвы часто говорят вопреки действительности, как и в нашем случае они не помещаются в тесную обыденность веселых кварталов. Казалось бы, нет ничего рокового в этих невинных клятвах. Часто они лишь метафора сильной страсти в европейской поэзии. Но надо знать реалии времени, чтобы понять что такое обет в условиях японского XVIII столетия.
Обеты в те времена писались на специальной бумаге, продаваемой только в храмах. Они скреплялись печатью кровью, в них человек клялся буддами и бодисатвами, Брамой и Индрой и всеми "властителями судеб". В случае неисполнения обета человек навлекал на себя небесную кару всех тех богов, которыми клялся. Влюбленные бережно носили обеты на груди в специальных мешочках. Обеты, написанные на священных листах бумаги, считались магическими оберегами, и их нельзя было просто бросить или разорвать. Их можно было только предать огню в случае измены одной из сторон. Дзихэй и Кохару 29 раз клялись священной клятвой, что не разлучатся даже в смерти. Их обеты были не просто выражением любовного восторга. Тогда люди верили в могучую кармическую силу любовных обетов. Обеты были подобны клятве вассальной верности у самураев. Обет – изначально глубоко мистическая акция, выводящая человека за пределы социально-исторического бытия в сферу абсолюта. Любовный обет можно сравнить с таинством венчания в христианском мире (но сравнить, конечно, условно и лишь в одном смысле: как утверждение мистической связанности любящих – браки совершаются на небесах). Поэтому в свете закона кармы исполнение обета для давшего его становится первейшей реальностью.
Смысл обетов хорошо понимали все люди, окружавшие Дзихэя и Кохару. И хозяйка дома свиданий, где служила Кохару, и жена Дзихэя и все его родные пытались прежде всего сделать так, чтобы обеты влюбленных стали недействительными. Но вмешательство богатого купца Тахэя (амплуа злодея в театре) в судьбу Кохару роковым образом восстановило силу обетов влюбленных. И герои погибают, чтобы возродиться, как они верят, в будущих рождениях мужем и женою: ведь твердое, неукоснительное осуществление клятвы вознаграждается богами, исправляет карму, улучшает ее. Поэтому самоубийство по обету во имя любви и осознается как очистительное жертвоприношение богам, и таким образом, ему придается религиозный смысл. Такого рода самоубийства (харакири, синдзю) являются, видимо, отголоском древних языческих кровавых жертвоприношений богам. В силу этого средневековое самоубийство по обету не следует смешивать с самоубийствами, совершаемыми по человеческому своеволию и без каких бы то ни было религиозных мотивов.
Только зная место и значение обетов в средневековой жизни, можно осознать безграничную силу любви, возникающей между теми, кто связывает себя обетами верности. Ведь обет дается по обоюдному и свободному волеизъявлению, по чувству. Это исключительно свободно рождающаяся с обеих сторон вера, что союз данного мужчины и данной женщины исключителен, мистически предопределен и не может быть разорван земными усилиями. Кажется странным, что столь великая любовь рождалась в домах терпимости. Веселые кварталы больших городов позднего средневековья можно рассматривать в определенном смысле как продолжение традиций свободной любви и свободных браков эпохи Хэйан. Но только тут происходит и сословное иерархическое снижение и погружение в подполье жизни в отличие от придворных хэйанских обычаев. Во времена Тикамацу – а это времена господства конфуцианских норм – существовали несколько иные представления о семье, браке, любви. Женщины любого сословия должны были строжайше соблюдать целомудрие до брака. Браки совершались по сговору, нередко между родственниками. Жена переходила в дом мужа, и свободных связей не должно было быть у жены; у мужа они тоже не поощрялись. Раннесредневековая полигамия выродилась в институт публичных домов. Посещение женатым человеком веселых кварталов воспринималось обществом как позволительная вольность, но не могло быть и речи о возникновении у женатого человека серьезных привязанностей к их обитательницам. Хозяева домов свиданий строго следили, чтобы девушки не отдавали никому предпочтение. Хозяйка Кохару говорит: "У госпожи Кохару есть любимый гость по имени Дзихэй. Сегодня – Дзихэй, завтра – Дзихэй, каждую ночь – Дзихэй. А другой гость к ней и не сунься. Богатые гости так и разлетелись во все стороны, как листья в бурю. А если такая страсть разыграется, то уж оба словно одуреют от любви. Далеко ли до беды? Тут может случиться несчастье и с девушкой и с гостем. А главное, нашему делу от этого большой вред бывает. Понятно, что у нас, хозяев, повсюду один обычай: такой любви надо мешать". Так соблюдалась жестокая иерархически-сословная мудрость: продажная женщина не должна становиться объектом искреннего чувства; девушка, проданная в дом свиданий, несла определенный социальный долг, который заключался в понимании своего места и соблюдении установленных правил поведения. Но вопреки здравому смыслу, вопреки общественным нормам были нередки случаи возникновения истинной любви в этих страшных заведениях. Для этого существовали даже некоторые объективные условия. Во-первых, девушки, как правило, оказывались в домах свиданий не по доброй воле, но продавались туда вконец обнищавшими родителями (на несколько лет или пожизненно) во исполнение дочернего долга перед родителями. Их ремесло было своего рода формой женского рабского труда, поэтому их судьба могла вызывать жалость и сочувствие.
Кроме того, девушки из домов свиданий бывали очаровательны, бывали научены некоторым изящным искусствам, а также искусству угождать мужчинам и нравиться им. Можно провести параллель с придворными дамами Хэйана, но уже как вырождение этой традиции, как квази-свободная любовь. Куртизанка XVIII в. была окутана ореолом очаровательности в устах молвы, и нередко первое посещение какой-либо девушки в доме свиданий было связано для мужчины с желанием удовлетворить свое любопытство, разбуженное слухами. Если мужчина был свободен и богат, он мог выкупить полюбившуюся ему девушку и сделать ее своей женой или содержанкой. Это говорит о том, что хотя ремесло продажной женщины считалось позорным, сама женщина могла рассматриваться как временная жертва этого ремесла; в случае обоюдной любви возможность честного брака не закрывалась для нее. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что Дзихэй полюбил Кохару.
Наконец есть еще один мотив, останавливающий на себе внимание. Мы знаем образцы поэзии и драмы в европейских литературах, воспевающие любовь как страсть, как бы преодолевающую все преграды, погружающуюся в себя самое, как бы отлетающую от мира. И нас не может не поражать, что в Японии и при самой великой любви любящие не забывают ни на минуту о своем человеческом долге по отношению к окружающим, к близким. По нашим новоевропейским меркам тогда как-то не очень и верится в большую любовь, которая у нас непременно должна быть эгоистичной, безоглядной. Иначе у Тикамацу. С одной стороны, Дзихэй и Кохару безмерно любят друг друга, не могут жить в разлуке, дают великие средневековые обеты, самоуничтожаются ради своей любви. С другой стороны, они постоянно, до последнего вздоха, помнят о близких, оплакивают их судьбы, испытывают жгучее чувство стыда и вины перед ними. Социальный долг сплетается у них с чувством естественного человеческого долга, рождая пронзительную эмоциональность драмы. Такой долг выражен для японцев в понятиях "он" и "гири", вовсе не ушедших еще в прошлое. "Он" – это "долг благодарности" ребенка к родителям, вассала к сюзерену, гражданина к государству. "Гири" – "обязанность, обязательство", требующие от каждого человека действовать в согласии с его положением и местом в обществе. Это также обязанность человека по отношению к себе самому: соблюдение чести и достоинства своей личности, своего имени. Должно быть готовым принести себя в жертву во имя "он" и "гири", своего рода социального, профессионального и человеческого кодекса поведения. Не было такой области жизни, где бы упразднялись две эти идеи. Можно сказать, что "он" – это природный, естественный долг, а "гири™ – это социально-общественный долг. Кохару и Дзихэй страдают оттого, что их любовь нарушает гармонию "он" и "гири" в их жизни. Это страдание переполняет их сердца. Кохару, решаясь на самоубийство с возлюбленным, предает свой "долг благодарности" по отношению к старой матери. Она скорбит, что мать останется после ее гибели без средств к существованию:
- А мать моя жива.
Она бедна.
Ютится в жалкой хижине она
И кормится поденною работой
Умру – что станет с ней?
Она умрет
От горя и позора
Какая грусть!..
Дзихэй страдает при мысли, что оставляет детей сиротами и жену обездоленной. В последние минуты жизни он плачет о детях и близких:
- Дзихэй,
Ты негодяй, преступник,
Ты виновен
Во всех смертельных десяти грехах!
Да, ты умрешь.
Но даже после смерти
Ты будешь долго причинять им боль
И верные сердца твоих родных
Тебя и после смерти не покинут.
Дзихэй и Кохару сознают свой долг перед близкими, сознают, что не исполняют его, но их сердца пребывают уже за пределами бытия; внутренне они погрузились в не-бытие, в иное измерение, они выбыли из жизни еще до физической гибели. Это передано в драме в словах: "...уши человека, который находится во власти у бога смерти, глухи к разумным увещеваниям". Нередко поэтому и японские и зарубежные исследователи драм Тикамацу о смерти во имя любви называют их драмами борьбы чувства и долга (ниндзё-гири). Но у Тикамацу нет борьбы. Есть полное сознание и признание долга, есть понимание греховности в неисполнении долга, есть искренняя печаль и боль, что в том положении, в каком оказались герои, они не могут до конца следовать праведным путем "он" и "гири", т.е. своему земному долгу, но должны подчиниться более могучему долгу – иррациональному зову обетов, продиктованных любовью. Герои стоят перед необходимостью выбора между долгом и долгом. И они выбирают исполнение обетов и сохранение своего достоинства, т.е. долг по отношению к самим себе. И как раз в силу неустранимости из их сознания долга по отношению к близким, их любовь представляется более возвышенной. Кроме того, драмы Тикамацу о самоубийстве влюбленных можно было бы считать построенными на коллизии чувства и долга, если бы подчинение долгу и отказ от любви развязывали бы узел, разрешали конфликт. Представим на минуту, что Кохару остается в Сонэдзаки и ее выкупает Тахэй, а Дзихэй остается в своей семье. Тогда жизнь и того и другого обрекается быть покрытой позором, ибо по тогдашним нравственным нормам девушка, давшая клятву верности и не исполнившая ее, лишается чести, а мужчина, не способный выкупить возлюбленную, с которой связан любовным обетом, и предоставляющий это сделать другому лицу, также покрывает себя позором. Позор же в религиозном отношении очень страшен: это погубление собственной кармы, это погубление себя для будущих благодетельных рождений. Жизнь в позоре приводит к тягчайшим кармическим последствиям. Чем искупается позор? По древним обычаям – жертвой. Дзихэй и Кохару и совершают такое жертвоприношение, во имя спасения своей кармы, во имя своей любви, во имя своего достоинства. Из длинной цепи обязанностей, обыкновенно гармонично сочетающихся у людей, Дзихэй и Кохару вынуждены выбирать, какой долг они обязаны соблюсти в первую очередь, ибо сами их "долги" пришли в дисгармонию. Первая обязанность каждого человека в религиозном обществе сберечь собственную душу, "спастись", поэтому Дзихэй и Кохару выбирают смерть. Таким образом, японский ум признает, что кармически по закону причин и следствий человек может быть вовлечен собственными неправильными действиями (Дзихэй и Кохару не имели права влюбляться друг в друга и тем более – давать обеты) и вмешательством чужой злой воли (богач Тахэй) в ситуацию, выход из которой возможен только один – человеческое жертвоприношение (что само по себе является очень древним представлением). Очищение жертвой – такое понятие сохраняется и в христианстве, но в преображенном виде: это жертва бескровная. "Жертва Богу дух сокрушен", т.е. подлинное покаяние, исповедь и причастие Святых Тайн и очищение себя для дальнейшей праведной жизни.
Итак, "синдзю", как и "харакири", представляет собой род религиозного жертвоприношения в форме самоубийства в целях исправления кармы и со- хранения чести. Религиозный аспект самоуничтожения Дзихэя и Кохару прямо выведен в тексте драмы. Кохару говорит:
"Смерть легче, чем позор! Умрем вдвоем!' –
Так он сказал.
"Умрем! – я обещала. –
Такая жизнь постыдна".
И теперь
Смерть- наш неотвратимый долг.
Тут все поражает воображение. Первое: смерть легче позора. Но ведь не в телесном же, не в "плотском" же это говорится смысле. "Материально"-то смерть конечно тяжелее. Второе: смерть может восприниматься как долг. Какого рода смерть может быть долгом? Не естественная: безусловно, какая-то особенная. В сущности речь идет о долге самоистребления, самоуничтожения. Но перед кем или чем? Перед собственной кармой, перед богами, именами которых клялся.
Идем дальше по тексту:
Так и безумцы,
Не знающие удержу в любви,
Всегда к печальному концу приходят.
И неужели
Такой конец их жизни
Определен Учением о карме Сакья Муни?
И чуть ниже читаем:
Ведь тот, кто близок к преисподней
И слышит голос бога смерти,
..................
Тот примиряется
С печальной кармой
И тот покорно смотрит,
Как надвигается расплата...
Расплата
За все его грехи,
За то, что погубил
Он все свои дела
И все пути запутал.
Вот они, глубины японского средневекового духа. Самоубийство – это еще и форма возмездия за нарушение "он" и "гири". Древние боги мстительны, их можно умилостивить только сверхжертвой.
И наконец вот как выражена вера влюбленных в исправление своей кармы:
О чем скорбеть?
Мы в этом бытии
Дороги не могли соединить.
Но в будущем рождении, я верю,
Мы возродимся мужем и женой.
О, и не только в будущем рождении,
Но в будущем... и будущем... и дальше -
В грядущих возрождениях, всегда
Мы будем неразлучны!
Последние слова Дзихэя - это молитвенные возгласы: "Пусть мы возродимся в лотосе одном! Хвала и слава будде Амитаба!"
Итак, самоубийство влюбленных во имя любви есть безусловно жертвоприношение и безусловно возмездие.
Что еще поражает европейское воображение в обычае синдзю? То, как оно совершается. Оно происходит, как правило, вне человеческого жилья. Влюбленные бегут глубокой ночью в какое-то безлюдное место и на рассвете посреди пробуждающейся природы, с первыми ударами храмовых колоколов, гибнут. Совершается не самоубийство, а убийство и самоубийство. Мужчина сначала закалывает свою возлюбленную, а потом кончает с собой. Вот как описана эта сцена в рассматриваемой нами драме:
Кохару улыбается...
Он видит
Ее лицо, белеющее смутно
В лучах рассвета.
Как она бледна
От утреннего холода!
Рука
Его дрожит...
В его глазах темнеет.
Сквозь слезы
Трудно различить Дзихэю,
Куда свой меч он должен
Погрузить...
Кохару подбадривает его: "О, не теряйте мужества! Спокойней, спокойней! Быстрее! Быстрее...
Она его торопит. Сколько силы
В душе у этой женщины!
А ветер
Доносит отголоски песнопения
И колокольный гул.
..................
И... словно меч разящий Амитабы,
Земные отсекающий желанья,
Зажат в руке Дзихэя.
Он мгновенно,
Возлюбленную усадив на землю,
Вонзает наискось ей в грудь клинок!
Но дрогнула его рука.
Кохару
Откинулась назад в предсмертных муках.
Она еще жива.
Хотя Дзихэй
Дыхательное горло перерезал.
О кара кармы! О возмездия мощь!
Она не может сразу умереть.
За что ей посланы Мученья эти?..
Дзихэй страдает вместе с нею. Но,
Собравшись с духом,
С земли Кохару поднимает...
Он погружает меч по рукоять
И с силой поворачивает.
Жизнь Кохару отлетает, словно сон
На утренней заре...
Она мертва.
Он бережно укладывает тело:
На север головой,
Лицом на запад -
К обители блаженных.
Покрывает
Ее своей накидкою.
Не в силах
Рыданий удержать
(От рукавов ее
Знакомым веет ароматом),
Спешит он отвернуться...
Он идет,
К себе притягивает длинный пояс
И, в петлю голову продев,
На шее
Прилаживает шнур...
Молитва в храме
Пришла к концу.
..................
Последние слова
Дзихэя...
Он провозглашает: "Пусть
Мы возродимся в лотосе одном!
Хвала и слава будде Амитаба!"
И прыгает с откоса.
Повисает,
Качаясь, как горлянка-тыква...
Недолго тянутся его страданья:
Дыханье перехвачено
И он
Теряет связь с земною жизнью.
Всякий человек, у которого не притуплено воображение, содрогнется и обольется слезами над этими строками, скажет: "Человеческое сердце - непостижимая бездна". А у европейца непременно возникнет вопрос: почему мужчина убивает женщину, почему она не убивает себя сама? Это ясное указание на отражённость женской природы, указание на то, что мужчина - творец женской судьбы, что в нём заключена её жизнь. Вообще говоря, вся картина этого синдзю поражает, в ней много для нас загадочного, вопрос встает за вопросом. Например, "Кохару улыбается", когда Дзихэй обнажает в ее сторону меч, "она его торопит". Это величественно, и это самое, может быть, понятное. Но далее - Дзихэй не прощается с телом возлюбленной, но спешит накрыть ее плащом и отвернуться. Тут действует обычай глубокой древности, когда труп умершего считался нечистым, и зрелище трупа вызывало отвращение, считалось позорным. Поэтому в момент синдзю женщины нередко просили возлюбленных привязывать их к деревьям, чтобы не выглядеть безобразно по смерти. Поражает и то, что самоубийство совершается на фоне храмовой службы, и, следовательно, поистине воспринимается и автором и его участниками как дело благое, как законная жертва богам во спасение.
Наконец, уместно вернуться к вопросу о взаимоотношении полов в средневековой Японии. Открываются забытые и заброшенные Европой миры. Мужчина и женщина живут согласно природной иерархии: он - господин, она - раба (но не в смысле "невольница", а в смысле - "работающая" во имя своего избранника). Бесконфликтна в драме и линия Кохару и жены Дзихэя - О-Сан. Кохару признает за О-Сан первенствующее право на любовь Дзихэя, признает в ней его жену, и вовсе не стремится устранить "соперницу". Она просто и не воспринимает ее как соперницу. А О-Сан, в свою очередь, не смотрит на Кохару как на ненавистную разрушительницу ее семьи. Она предполагает в Кохару наличие лучших человеческих качеств и к ним взывает. Она взывает к ее благородству, самопожертвованию, когда пишет Кохару письмо:
Молю, порвите вашу связь с Дзихэем.
Мы, женщины, должны всегда друг другу помогать.
Я знаю,
Как горячо вы любите его.
Но вы, любя, погубите Дзихэя!
О, если это невозможно, все же
Должны и невозможное вы сделать!
Молю, спасите мужа моего!
Отца не отнимайте у детей!
Как кротко пытается О-Сан разжалобить Кохару, сколь косвенно она напоминает ей о существовании долга "гири". И - ни тени ревности, ни одного оскорбительного слова. Более того - она признает за Кохару право любить Дзихэя: она просит, умоляет сделать "невозможное". Она не описывает своего плачевного положения брошенной жены, нет, на первый план она выдвигает судьбу мужа и детей. Она обращается к Кохару не как к сопернице, а как к сестре, как женщина к женщине. И вот ответ Кохару; "Хоть мой возлюбленный для меня дороже жизни, обещаю, что порву с ним любовную связь, повинуясь неотвратимому долгу". И здесь также - ни слова ревности, ни намека на особые притязания на Дзихэя. О каком таком "неотвратимом долге" говорит Кохару? Это ее "гири" - определенные нормы поведения, неотвратимо предписанные ей ее социальным положением. А ей всего 19 лет, полюбила же она Дзихэя в 16 и не исключено, что впервые в жизни! И она исполняет свое обещание, причем устраивает все так, чтобы Дзихэй сам порвал с ней. Она безжалостно компрометирует себя и в глазах Дзихэя и в глазах его брата (см. первый акт). И новое их свидание, предсмертное, происходит уже после того, как отец О-Сан расторг брак Дзихэя и дочери. Более того. Даже готовясь умереть, Кохару помнит и о детях Дзихэя, и о его жене, помнит тепло и заботливо. Она просит Дзихэя, чтобы они умерли не рядом, но поодаль - так будет правильнее перед его женой. Тогда в ответ на эту ее просьбу Дзихэй отсекает мечом свои волосы: он становится монахом. Кохару следует его примеру - она отрезает свои волосы, и также объявляет себя монахиней. И значит для О-Сан и для общества они умирают отдельно, не как возлюбленные, но как монахи. Даже в таких обстоятельствах они делают максимум для исполнения своего земного долга перед людьми. Дзихэй говорит:
Да, мы умрем в один и тот же час,
Но смертью не одной. Ты - от меча,
А я - от петли...
Да, мы умрем поодаль друг от друга
И совесть нашу чистой сохраним!
Так нам приказывает строгий долг
К моей жене.
Все это кажется непостижимым, невероятным, опутанным тьмой условностей. Все это насквозь антиномично, казалось бы, непоместимо в одной груди, но оказывается, что и поместимо и возможно и не лишено величия.
Заметим, что отношение Дзихэя к жене также никак не повреждается из-за его любви к Кохару. Он удаляется от жены интимно, телесно, но духовная связь с нею сохраняется. Он продолжает высоко ценить ее преданность ему и детям. О-Сан тоже никогда не раздражается против мужа, не требует объяснений, но с болью терпит его неверность, забывая о себе, пытается помочь ему. Только один раз вырываются у нее жалобные стенания и слезы. Тетушка упрекает О-Сан: "Послушай, О-Сан! Как ты ни молода, но ты все же мать двух детей. Быть покладистой и на все смотреть сквозь пальцы - это еще не самое главное в жизни. В беспутстве мужа повинна и жена-потатчица. Если погибнет благосостояние семьи, если супругам придется разлучиться, то позор падет не на одного только мужа. О-Сан, будь твердой и осмотрительней: следи за мужем! Не распускай Дзихэя своего!" Но О-Сан не слушает ее советов и защищает мужа и перед тетушкой и перед отцом. Дзихэй, любя Кохару, сопротивляется в то же время желанию тестя развести его с О-Сан. Да и О-Сан не хочет расставаться с неверным мужем, разорившим семью. Отец уводит ее из дома мужа против ее воли.
Так мы видим, что главнейшим мотивом поступков всех участников драмы является чувство долга. И даже смерть по обету во имя любви может диктоваться долгом. Как мы пытались посильно показать, самоубийство влюбленных - синдзю - есть долг и искупительная жертва; оно глубоко религиозно в своей основе. За многие века средневековой истории в Японии вызрели и существовали самобытные формы брака и взаимоотношения полов, выработалась своя психология пола, которая оказалась очень устойчивой. Женщина, обладающая определенным влиянием на мужчину, создавая эмоциональный климат его бытия, живет в постоянном склонении к мужчине, живет в признании своей отраженности (он - солнце, она - луна), предначертанной волей неба. Многие хэйанские и эдоские идеалы любви вышли нетленными из огня нововременной эмансипации и до сих пор придают особую прелесть облику японки, покрывают завесой тайны союз мужчины и женщины. И мы лишь слегка приоткрыли эту завесу.
Воспроизводится с любезного разрешения автора по изданию: Н.Г. Анарина. Три статьи о японском менталитете. Москва, Международный центр научной и технической информации, 1993.Оригинал
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
 Antares Японцы 14.11.2008, 17:28 Antares Японцы 14.11.2008, 17:28  Antares Несколько занятных фактов о японцах
1. Японцы, в большинстве своем, плохо водят машины.
2. В ресторанах и фаст-фудах Японии вместе с ... 17.11.2008, 16:38 Antares Несколько занятных фактов о японцах
1. Японцы, в большинстве своем, плохо водят машины.
2. В ресторанах и фаст-фудах Японии вместе с ... 17.11.2008, 16:38  Antares С песней по жизни
"Джамаааайка, джамааа-а-а-а-йкааа…" самозабвенно ору порой в микр... 17.11.2008, 16:48 Antares С песней по жизни
"Джамаааайка, джамааа-а-а-а-йкааа…" самозабвенно ору порой в микр... 17.11.2008, 16:48  Antares О субординации, ритуалах, свободе и несвободе
Проведя многие годы за колючей проволокой, человек начинает по-особому относиться к свободе. ... 19.11.2008, 2:49 Antares О субординации, ритуалах, свободе и несвободе
Проведя многие годы за колючей проволокой, человек начинает по-особому относиться к свободе. ... 19.11.2008, 2:49  Antares Звукоподражания
В японском языке существует множество обозначений для передачи в тексте или в манге тех или иных природных и искусственных звуков... 21.11.2008, 2:40 Antares Звукоподражания
В японском языке существует множество обозначений для передачи в тексте или в манге тех или иных природных и искусственных звуков... 21.11.2008, 2:40  Antares Жестикуляция японцев
Указывание пальцем на собственный нос - "Я говорю о себе".
Руки скрещены на гру... 21.11.2008, 2:48 Antares Жестикуляция японцев
Указывание пальцем на собственный нос - "Я говорю о себе".
Руки скрещены на гру... 21.11.2008, 2:48  Antares Что японцы думают о нас?
Начну с начала, с того, что думают о России те, кто там не был. Пожалуй, три основных слова это 「... 2.12.2008, 6:04 Antares Что японцы думают о нас?
Начну с начала, с того, что думают о России те, кто там не был. Пожалуй, три основных слова это 「... 2.12.2008, 6:04  Antares Почему японцы любят сакуру?
Вопрос сложен. Нет, безусловно, это очень красиво, невероятно красиво, потрясающе красиво, но если посадить в та... 2.12.2008, 6:23 Antares Почему японцы любят сакуру?
Вопрос сложен. Нет, безусловно, это очень красиво, невероятно красиво, потрясающе красиво, но если посадить в та... 2.12.2008, 6:23  Antares Досуг современных японцев. Отдых для настоящих мужчин.
Япония – удивительная и загадочная для европейца страна, со своими традици... 6.12.2008, 3:39 Antares Досуг современных японцев. Отдых для настоящих мужчин.
Япония – удивительная и загадочная для европейца страна, со своими традици... 6.12.2008, 3:39  Antares Странные люди, или Дискуссия о дискуссии
«До чего же вы, японцы, странные люди!», - негодовал Никита Хрущёв, безуспешно п... 29.12.2008, 8:09 Antares Странные люди, или Дискуссия о дискуссии
«До чего же вы, японцы, странные люди!», - негодовал Никита Хрущёв, безуспешно п... 29.12.2008, 8:09   Ogami Цитата(Antares @ 29.12.2008, 7:09) Один мой японский знаком... 29.12.2008, 20:23 Ogami Цитата(Antares @ 29.12.2008, 7:09) Один мой японский знаком... 29.12.2008, 20:23    Antares Цитата(Ogami @ 29.12.2008, 20:23) А вот это имхо больше похоже на элемен... 6.1.2009, 6:50 Antares Цитата(Ogami @ 29.12.2008, 20:23) А вот это имхо больше похоже на элемен... 6.1.2009, 6:50  Antares Мысли и наблюдения за японской провинцией
Чтобы понять японца, который при виде иностранца пытается говорить на том, что осталось у него в... 23.1.2009, 23:28 Antares Мысли и наблюдения за японской провинцией
Чтобы понять японца, который при виде иностранца пытается говорить на том, что осталось у него в... 23.1.2009, 23:28  euphoria ЦитатаЕще одним популярным видом проведения досуга является – отдых в компании дам. Какой же отдых без гейш – талантливых оболь... 28.2.2009, 11:21 euphoria ЦитатаЕще одним популярным видом проведения досуга является – отдых в компании дам. Какой же отдых без гейш – талантливых оболь... 28.2.2009, 11:21  Мифодий Приглашаю вас в интерактивную карту японских магазинов - http://www.uniqlo.com/uniql... 30.5.2009, 20:33 Мифодий Приглашаю вас в интерактивную карту японских магазинов - http://www.uniqlo.com/uniql... 30.5.2009, 20:33
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
| |
 Японцы, Это те человеки которые живут в Японии =)
Японцы, Это те человеки которые живут в Японии =) Antares Японцы 14.11.2008, 17:28
Antares Японцы 14.11.2008, 17:28
 Antares Несколько занятных фактов о японцах
1. Японцы, в большинстве своем, плохо водят машины.
2. В ресторанах и фаст-фудах Японии вместе с ... 17.11.2008, 16:38
Antares Несколько занятных фактов о японцах
1. Японцы, в большинстве своем, плохо водят машины.
2. В ресторанах и фаст-фудах Японии вместе с ... 17.11.2008, 16:38
 Antares С песней по жизни
"Джамаааайка, джамааа-а-а-а-йкааа…" самозабвенно ору порой в микр... 17.11.2008, 16:48
Antares С песней по жизни
"Джамаааайка, джамааа-а-а-а-йкааа…" самозабвенно ору порой в микр... 17.11.2008, 16:48
 Antares О субординации, ритуалах, свободе и несвободе
Проведя многие годы за колючей проволокой, человек начинает по-особому относиться к свободе. ... 19.11.2008, 2:49
Antares О субординации, ритуалах, свободе и несвободе
Проведя многие годы за колючей проволокой, человек начинает по-особому относиться к свободе. ... 19.11.2008, 2:49
 Antares Звукоподражания
В японском языке существует множество обозначений для передачи в тексте или в манге тех или иных природных и искусственных звуков... 21.11.2008, 2:40
Antares Звукоподражания
В японском языке существует множество обозначений для передачи в тексте или в манге тех или иных природных и искусственных звуков... 21.11.2008, 2:40
 Antares Жестикуляция японцев
Указывание пальцем на собственный нос - "Я говорю о себе".
Руки скрещены на гру... 21.11.2008, 2:48
Antares Жестикуляция японцев
Указывание пальцем на собственный нос - "Я говорю о себе".
Руки скрещены на гру... 21.11.2008, 2:48
 Antares Что японцы думают о нас?
Начну с начала, с того, что думают о России те, кто там не был. Пожалуй, три основных слова это 「... 2.12.2008, 6:04
Antares Что японцы думают о нас?
Начну с начала, с того, что думают о России те, кто там не был. Пожалуй, три основных слова это 「... 2.12.2008, 6:04
 Antares Почему японцы любят сакуру?
Вопрос сложен. Нет, безусловно, это очень красиво, невероятно красиво, потрясающе красиво, но если посадить в та... 2.12.2008, 6:23
Antares Почему японцы любят сакуру?
Вопрос сложен. Нет, безусловно, это очень красиво, невероятно красиво, потрясающе красиво, но если посадить в та... 2.12.2008, 6:23
 Antares Досуг современных японцев. Отдых для настоящих мужчин.
Япония – удивительная и загадочная для европейца страна, со своими традици... 6.12.2008, 3:39
Antares Досуг современных японцев. Отдых для настоящих мужчин.
Япония – удивительная и загадочная для европейца страна, со своими традици... 6.12.2008, 3:39
 Antares Странные люди, или Дискуссия о дискуссии
«До чего же вы, японцы, странные люди!», - негодовал Никита Хрущёв, безуспешно п... 29.12.2008, 8:09
Antares Странные люди, или Дискуссия о дискуссии
«До чего же вы, японцы, странные люди!», - негодовал Никита Хрущёв, безуспешно п... 29.12.2008, 8:09

 Ogami Цитата(Antares @ 29.12.2008, 7:09) Один мой японский знаком... 29.12.2008, 20:23
Ogami Цитата(Antares @ 29.12.2008, 7:09) Один мой японский знаком... 29.12.2008, 20:23

 Antares Цитата(Ogami @ 29.12.2008, 20:23) А вот это имхо больше похоже на элемен... 6.1.2009, 6:50
Antares Цитата(Ogami @ 29.12.2008, 20:23) А вот это имхо больше похоже на элемен... 6.1.2009, 6:50
 Antares Мысли и наблюдения за японской провинцией
Чтобы понять японца, который при виде иностранца пытается говорить на том, что осталось у него в... 23.1.2009, 23:28
Antares Мысли и наблюдения за японской провинцией
Чтобы понять японца, который при виде иностранца пытается говорить на том, что осталось у него в... 23.1.2009, 23:28
 euphoria ЦитатаЕще одним популярным видом проведения досуга является – отдых в компании дам. Какой же отдых без гейш – талантливых оболь... 28.2.2009, 11:21
euphoria ЦитатаЕще одним популярным видом проведения досуга является – отдых в компании дам. Какой же отдых без гейш – талантливых оболь... 28.2.2009, 11:21
 Мифодий Приглашаю вас в интерактивную карту японских магазинов - http://www.uniqlo.com/uniql... 30.5.2009, 20:33
Мифодий Приглашаю вас в интерактивную карту японских магазинов - http://www.uniqlo.com/uniql... 30.5.2009, 20:33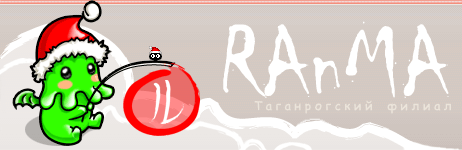





 14.11.2008, 17:28
14.11.2008, 17:28







